Каждую осень весь мир следит за Нобелевскими премиями — за выдающимися людьми, которые изменили наше представление о мире, в котором мы живём. Учёные, писатели, борцы за мир выходят на сцену в Стокгольме, и кажется, будто вся наука живёт только в лабораториях, формулах и микроскопах. Но однажды лауреатом стал человек, который занимался не привычными физикой или химией, а изучением правил, на основе которых формируется наше мышление и почему мы так часто совершаем ошибки.
В 2002 году Нобелевскую премию по экономике получил американо-израильский психолог Дэниел Канеман (Daniel Kahneman) за то, что он доказал, что человек вовсе не так рационален, как принято считать в классической экономике. Это стало сенсацией - психолог впервые получил экономическую награду, и мир признал, что поведение человека неправильно описывать только в цифрах.
Канеман работал вместе со своим близким другом и соавтором Амосом Тверски (Amos Tversky), с которым долгие годы исследовал, как люди принимают решения, взвешивают риски и почему чаще всего ошибаются в предсказуемом направлении. К сожалению, Тверски умер в 1996 году, а Нобелевские премии посмертно не присуждаются, поэтому награду получил только Канеман. Но и сам он в каждой своей речи подчёркивал: «Это была совместная работа. Половина моей головы — это Амос».
Из их исследований выросла новая область — поведенческая экономика, соединившая в себе психологию, экономику и философию принятия человеческих решений. Их идеи сегодня показывают, почему мы боимся потерь сильнее, чем радуемся победам, почему голосуем за «уверенных» политиков, и как маркетинг заставляет нас выбирать то, чего мы не хотим.
История Канемана и Тверски — это не только о науке, но и о редком союзе двух великих умов, которые могли много спорить, сомневаться и смеяться над существующими догмами. Но именно в таких спорах рождались гениальные идеи, раскрывшие принципы человеческого мышления - того самого важного процесса, который характеризует нас, как людей.
Два человека, которые поставили под сомнение рациональность
 В конце 1960-х годов Иерусалим был не только древним городом, но и местом, где постоянно рождались новые идеи. В Еврейском университете, среди шумных коридоров факультета психологии, встретились два человека, которым предстояло перевернуть представление о человеческом мышлении — Дэниел Канеман и Амос Тверски.
В конце 1960-х годов Иерусалим был не только древним городом, но и местом, где постоянно рождались новые идеи. В Еврейском университете, среди шумных коридоров факультета психологии, встретились два человека, которым предстояло перевернуть представление о человеческом мышлении — Дэниел Канеман и Амос Тверски.
Они были удивительно разными. Канеман — задумчивый, склонный к сомнениям, к бесконечным внутренним размышлениям. Он всегда тщательно взвешивал каждое слово и не доверял быстрым выводам. Сам он позже говорил, что всю жизнь был «профессиональным пессимистом» — человеком, который видит возможные ошибки прежде, чем начнёт действовать. Тверски был его полной противоположностью: уверенный, остроумный, блистающий интеллектом и обаянием. Он мгновенно схватывал суть любого вопроса и не боялся рисковать. Там, где Канеман видел неопределённость и повод для осторожности, Тверски видел поле для эксперимента. Если первый был интровертным аналитиком, то второй — человеком действия.
Их первая встреча, по воспоминаниям Канемана, началась почти что с конфликта. Он готовил лекцию для студентов о типичных ошибках восприятия и решил пригласить коллегу-математика, чтобы тот высказал своё мнение. В аудитории завязался спор — оживлённый, острый, местами саркастичный. Каждый отстаивал своё. Но в какой-то момент они оба почувствовали, что говорят на одном языке — просто рассматривают проблему с разных сторон.
Так началось их партнёрство, ставшее легендарным. Они стали проводить вечера в долгих разговорах — иногда на кафедре, иногда в кафе на улице Бен-Йехуда. Канеман предлагал парадоксы восприятия, Тверски превращал их в строгие логические схемы. Вместе они искали ответ, например, на такой вопрос: почему умный человек может действовать глупо?
Постепенно из этих разговоров выросла целая программа исследований. Они начали проверять, как люди оценивают вероятности, делают выбор и реагируют на неопределённость. Например, почему врачи переоценивают риск осложнений, а инвесторы ведут себя иррационально на бирже, хотя имеют всю необходимую информацию. Они выяснили, что большинство людей интуитивно не умеют мыслить в терминах статистики: мы судим по впечатлению, а не по вероятности.
Эта мысль казалась почти крамольной для науки того времени. Ведь в середине XX века считалось, что человек — рациональное существо, которое выбирает то, что выгоднее. Канеман и Тверски показали, что рациональность — это миф, и что на деле нами движут эмоции, ассоциации и ментальные короткие пути, которые мозг использует, чтобы сэкономить усилия.
Со временем их сотрудничество превратилось в почти симбиотический союз. Канеман придумывал парадокс, Тверски мгновенно проверял его на логическую прочность. Они спорили, смеялись, перебивали друг друга, и каждый из них заставлял другого мыслить глубже. Тверски однажды сказал: «Мы не думаем одинаково — но когда думаем вместе, получается лучше, чем у каждого по отдельности».
К концу 1970-х их имена уже знала вся академическая психология. Но тогда никто ещё не понимал, что эти бесконечные разговоры двух учёных в жарком иерусалимском воздухе станут началом новой эпохи — эпохи, когда сама рациональность человека будет поставлена под сомнение.
Почему люди ошибаются и не замечают этого
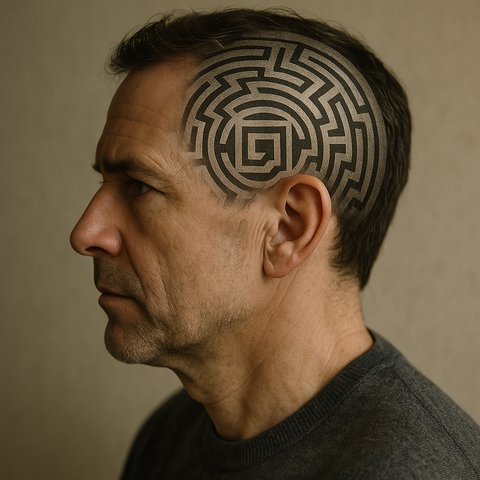 Канеман и Тверски начинали с простого, но неудобного вопроса: если человек — существо разумное, почему он так часто ошибается? Почему делает выбор, о котором потом жалеет? Почему судьи, врачи, менеджеры и политики — люди с хорошим образованием — могут принимать решения, которые противоречат здравому смыслу?
Канеман и Тверски начинали с простого, но неудобного вопроса: если человек — существо разумное, почему он так часто ошибается? Почему делает выбор, о котором потом жалеет? Почему судьи, врачи, менеджеры и политики — люди с хорошим образованием — могут принимать решения, которые противоречат здравому смыслу?
Ответ оказался не в недостатке знаний, а в устройстве процесса мышления. Наш мозг не анализирует каждую ситуацию заново — у него просто нет на это времени. Он работает по принципу экономии: выбирает не самое точное, а самое быстрое решение, который кажется очевидным в текущий момент. Чтобы справляться с миллиардами сигналов, мозг использует когнитивные «ярлыки» (heuristics) — привычные схемы, которые помогают быстро понять, что происходит. Они спасают нас от перегрузки, но имеют обратную сторону — возрастает вероятность появления систематических ошибок, которые Канеман и Тверски назвали когнитивными искажениями (cognitive biases).
Самое известное из них — эффект привязки (anchoring effect). Например, мы приходим в магазин, видим одну кофеварку за 300 евро, а другую — за 180. Вторая кажется выгодной, хотя, возможно, её реальная цена — 120. Но дело в том, что первая «привязала» восприятие, т.е. задала якорь. Мы оцениваем не абсолютные значения, а сравниваем с имеющимся впечатлением.
Другое искажение — ошибка подтверждения (confirmation bias). Мы склонны искать доказательства того, что уже априори считаем правильным, и игнорировать то, что не вписывается в нашу картину мира. Если человек уверен, что «все политики лгут», он будет замечать только те новости, которые это подтверждают. Всё остальное просто не дойдёт до его сознания.
А есть ещё эффект фрейминга (framing effect), или «эффект рамки». Канеман и Тверски любили приводить такой пример: людям показывали два варианта одного и того же медицинского сценария.
В первом говорилось: «спасутся 200 из 600 человек», во втором — «умрут 400 из 600».
Хотя смысл идентичен, большинство выбирало первый вариант. Слова «спасутся» создавали ощущение безопасности, а «умрут» — ощущение страха.
Так мозг реагирует не на цифры, а на форму подачи информации. Отсюда и возможность манипуляций в рекламе, и политические лозунги, и даже решения, которые мы принимаем в личной жизни.
Канеман позже называл эти ментальные ловушки «системой быстрого мышления» (System 1 thinking). Это наш внутренний автопилот: он работает быстро, интуитивно, и чаще всего нас выручает. Но также именно он заставляет нас переоценивать своё понимание мира, делать поспешные выводы и не замечать собственных ошибок.
Самое опасное в когнитивных искажениях — не то, что мы ошибаемся, а то, что стремимся избежать осознания этого факта. Мы уверены в большинстве случаев, что поступаем логично, а на деле просто следуем внутренним привычкам мозга. И, пожалуй, именно это открытие Канемана и Тверски стало тревожным: наш разум не всегда является хозяином в своём доме.
Теория перспектив: почему мы боимся потерь сильнее, чем радуемся победам
 Когда Канеман и Тверски поняли, насколько иррационально человек оценивает риск, они пошли дальше — попытались описать механику этих решений. Так появилась их знаменитая теория перспектив (prospect theory), за которую Канеман получил Нобелевскую премию.
Когда Канеман и Тверски поняли, насколько иррационально человек оценивает риск, они пошли дальше — попытались описать механику этих решений. Так появилась их знаменитая теория перспектив (prospect theory), за которую Канеман получил Нобелевскую премию.
В классической экономике всё просто: человек рационален, он сравнивает выгоды и выбирает то, что приносит больше. Но в реальной жизни так не работает. Мы оцениваем не сам результат, а то, как он соотносится с нашей текущей точкой отсчёта, т.е. с тем, что уже имеем. Потерять 100 евро, когда у тебя тысяча, и потерять те же 100 евро, когда у тебя только двести, — это эмоционально совершенно разные события. В теории — одинаковая сумма, а на деле — разная боль.
Канеман и Тверски предложили провести простой эксперимент.
Людям предлагали выбрать между двумя вариантами:
- А. гарантированно получить 1000 долларов;
- Б. 50% шанс выиграть 2000 и 50% шанс не получить ничего.
Большинство выбирало первый вариант — «надёжный».
Но когда формулировка менялась:
- А. гарантированно потерять 1000 долларов;
- Б. 50% шанс потерять 2000 и 50% шанс не потерять ничего —
то те же самые люди вдруг выбирали рискованный вариант.
Математика одинаковая, а решения — противоположные!
Именно так Канеман и Тверски доказали: потери мы ощущаем сильнее, чем радость от приобретения. Этот феномен они назвали отвращение к потерям (loss aversion).
Для мозга потеря всегда эмоционально тяжелее, чем равноценная прибыль. Выиграть тысячу приносит удовольствие, но потерять тысячу — вызывает боль гораздо сильнее. Поэтому мы часто цепляемся за старое, даже если новое сулит выгоду; держим ненужные акции, которые «вдруг подрастут»; и избегаем решений, где хоть что-то может пойти не так.
Канеман позже писал, что именно этот страх потерь формирует наше поведение сильнее, чем рациональные доводы. Мы склонны избегать боль, а не искать выгоду! Это касается не только денег, но также любви, карьеры, дружбы. Мы часто не идём на риск не потому, что не верим в успех, а потому, что не хотим испытать боль неудачи.
Теория перспектив показала: человек живёт не в мире объективных чисел, а в мире субъективных ощущений. Мы принимаем решения не как логические машины, а как чувствующие существа, которые меряют всё через собственные эмоции. И в этом нет ничего «плохого» — просто так эволюция сформировала человеческий мозг.
Когда Канеман в 2002 году стоял на сцене в Стокгольме и получал Нобелевскую премию, он говорил не о финансах и не о рынках. Он говорил о внутренних картах рациональности (maps of bounded rationality), о том, как человек строит свой мир внутри себя. Он напомнил, что наш разум ограничен, но именно в этих ограничениях заключается наша человечность.
Наследие и влияние: от экономики до повседневной жизни
 Когда их теория разошлась по научным журналам, мало кто мог представить, что эти психологические идеи Канемана и Тверски лягут в основу новых взглядов на поведение человека. Но вскоре они вышли за пределы университетских сообществ и проникли в экономику, политику, маркетинг, менеджмент и даже психотерапию.
Когда их теория разошлась по научным журналам, мало кто мог представить, что эти психологические идеи Канемана и Тверски лягут в основу новых взглядов на поведение человека. Но вскоре они вышли за пределы университетских сообществ и проникли в экономику, политику, маркетинг, менеджмент и даже психотерапию.
Экономисты начали учитывать человеческий фактор не как случайную погрешность, а как главную движущую силу, оказывающую влияние на мировые рынки. Инвесторы стали говорить о поведенческих ловушках, о том, как страх потерь заставляет людей продавать в панике акции и удерживать падающие активы, боясь признать собственные ошибки.
Политтехнологи научились использовать эффект фрейминга. Изменяя слова, можно переворачивать восприятие реальности. Скажи «повышение налогов» — и люди возмутятся. Но скажи «вклад в социальную справедливость» — и многие согласятся!
Маркетологи тоже поняли, как работает человеческий выбор. Они перестали продавать товар, а стали продавать ощущение: безопасности, уверенности, исключительности. И всё это опирается на то, что когда-то два израильских психолога доказали в университетской аудитории: человек ведёт себя не так, как предписывает логика, а так, как ему подсказывает внутренний компас его эмоций.
Но, пожалуй, главное наследие Канемана и Тверски не в экономике, а в нас самих. Их работы помогли нам научиться видеть наши собственные искажения, замечать, как быстро мозг приходит к выводам, и как часто он ошибается. Это не повод стыдиться или говорить о нашей слабости, нет, это шанс нам понять, как принимать решения более осознанно!
В терапии это знание помогает людям понять, почему они застревают в одних и тех же решениях, почему повторяют старые ошибки, почему страх потери — будь то отношений, статуса или уверенности — часто намного сильнее желания перемен.
В 2011 году, уже без Тверски, который умер за 15 лет до этого, Канеман собрал воедино десятилетия их исследований в книге «Думай медленно… решай быстро» («Thinking, Fast and Slow»). Она стала международным бестселлером, переведённым на десятки языков. Это не просто книга о психологии — это руководство по осознанности для современного человека. Миллионы людей узнали в ней самих себя в окружении своих импульсов, сомнений, привычек, которые раньше казались логичными, а оказались просто автоматическими реакциями.
Наследие Канемана и Тверски — не в формулах, а в том, что они научили нас сомневаться в собственной уверенности и оценивать ее с объективной стороны. Понимать, что ошибки — не слабость, а закономерная часть мышления. И, возможно, именно в этом и есть подлинная рациональность и сила — не в том, чтобы всегда быть правым, а в том, чтобы предвидеть, где можно ошибиться, признавать свои ошибки и находить разумное решение в любой ситуации.
